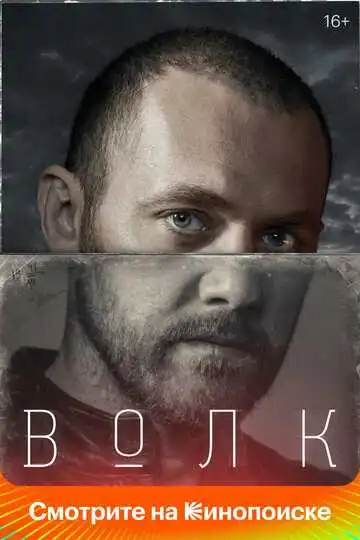Кирсан Аюшев, будучи убеждённым в своей гипотезе, тайком от начальства отправляет в Москву несколько образцов крови и тканей юных пациентов из Элисты. Он помнит о рисках — в центральных лабораториях любое отклонение от протокола может быть приравнено к «ошибке» и свести его открытия на нет. Однако спустя две недели он получает тревожное известие: анализы подтверждают наличие в крови детей редкого патогена, впервые описанного в тропических регионах Южной Азии. В своей записке московские учёные подчёркивают: если не начать экстренные меры, вспышка может выйти за пределы Калмыкии.
Весть о малоизвестной «экзотической» болезни достигает ушей Дмитрия Гончарова — ведущего инфекциониста Института эпидемиологии в Москве, который специализируется на нейротоксических и арбовирусных заболеваниях. Он вспоминает пыльный том старых исследований, где упоминалась флавивирусная группа, и понимает: именно он должен прибыть в Элисту. Гончаров остаётся одним из немногих «узнающих» в СССР специалистов, кто готов рискнуть репутацией ради спасения детей на окраине. Его прибытие вызывает сначала недоверие местных коллег, но когда он подробнейше объясняет карантинные протоколы и предлагает схему лечения на основе интерферона, Кирсан и медперсонал понимают: это их единственный шанс.
Под руководством Гончарова в больнице разворачивается экстренный кризис-центр: одни врачи изолируют заболевших, другие — организуют срочные поставки реактивов и лекарств из Москвы, третьи — проводят разъяснительные беседы с родителями, чтобы остановить панические настроения. В палатах педиатрического отделения дети, смело сражающиеся с лихорадкой, получают капельницы с инновационными препаратами, а в коридорах раздаётся гул тихих молитв и профессионального азарта. Когда через неделю статистика показывает снижение числа новых случаев, Кирсан и Дмитрий, взглянув друг на друга, понимают: объединив малую саратовскую клинику и столичный институт, они сумели превратить редкую опасность в совместную победу науки и человеческой солидарности.